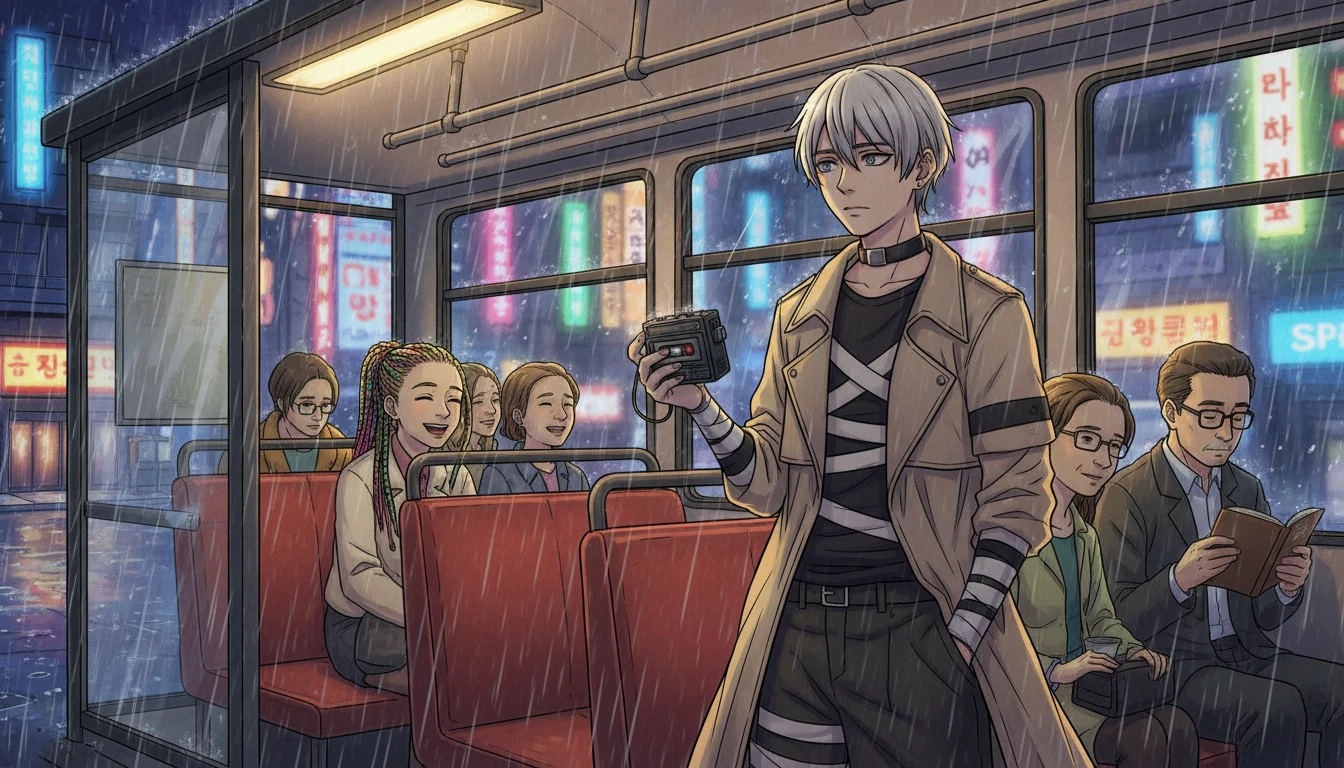Уличный рынок на рассвете, наполненный звуками и цветами. Фигура, напоминающая Сайтаму в авангардной уличной одежде, смелые силуэты в слоях, фартук, запачканный соевым пеной, собирает желтые соевые бобы. Свет проникает сквозь рыночные прилавки, отбрасывая мягкие тени, создавая теплую, приветливую атмосферу. На заднем плане анимированные тетушки, рыбные прилавки и мешки из мешковины. Текстуры ткани контрастируют с влажными поверхностями свежих продуктов. Выражение Сайтамы задумчивое, олицетворяющее как силу, так и мягкость, окруженное бурной жизнью рынка.
Рынок пробуждается до восхода солнца. Он пробуждается сначала от звуков: стук ножа о дерево из свинарника, влажный звук рыбы о эмалированные миски, мелодичное торгование, которое поднимается и опускается, как дыхание. Мой уголок — два складных стола, жестяные весы с иглой, которая дрожит, когда кто-то выдыхает рядом — пахнет влажными мешками из мешковины и теплой соей. Раньше я преподавал философию под флуоресцентными лампами, мел на манжетах, предложения, выстроенные как аккуратные ряды парт. Теперь я учу, погружая руки в холодную воду.
Тетушки зовут меня «Тоfu Сократ», наполовину подшучивая, наполовину присваивая меня себе. Они говорят это так же, как говорят «Доктор», указывая на мужчину, который знает, где прячутся вены у рыбы. Я не исправляю их. Я просто продолжаю собирать бобы.
Я собираю желтые соевые бобы так, как когда-то собирал аргументы: медленно, с вниманием к тонкой трещине. Хорошие бобы гладкие и тяжелые, их кожица натянута, как хорошо отдохнувшие лица. Плохие — сморщенные, погрызенные мышами или цвета старых зубов. Вы не можете заставить гнилой боб стать сладким. Вы можете только удалить его, прежде чем он отравит кастрюлю.
Женщина в красном фартуке наклоняется, ее волосы все еще влажные от мытья риса. «Учитель», говорит она, хотя никогда не знала меня в университете, «мой сын отказывается сдавать экзамен на госслужбу. Он говорит, что мир бессмысленен».
Я кручу горсть бобов между ладонями. Они звучат как сухой дождь. «Когда вы их перемалываете», говорю я ей, «они теряют форму, которой гордились. Они становятся пастой, затем молоком. Если боб настаивает на том, чтобы оставаться бобом, он никогда не станет завтраком».
Она фыркает. «Так ты говоришь, что его нужно перемолоть?»
«Я говорю, что он должен выбрать, что он готов потерять», отвечаю я. «Не то, чего он боится потерять».
Вот так начинаются наши разговоры здесь: с тела. С веса и тепла и упрямой физики дня. Рынок — это лучший класс, чем когда-либо был кампус, потому что вопрос, заданный рядом с парящей кастрюлей, всегда срочен. Вы можете почувствовать ставку.
Некоторые утренние часы я думаю о Сайтаме — Человек-удар, лысый герой, который может закончить спор о насилии одним, скучающим жестом. Люди приходят к нему так же, как они приходят к моему прилавку: желая простого ответа, который будет чистым на вкус, желая уверенности, завернутой в бумагу. Но сила Сайтамы — это также своего рода изгнание. Когда каждая драка заканчивается одним ударом, остается лишь неловкое молчание после аплодисментов, зуд, который нельзя почесать, потому что больше нет сопротивления.
Уличная одежда понимает этот зуд. Она понимает, что тело хочет доспехи, даже когда знает, что пули воображаемые. Вот почему идея «Слияния уличной одежды Сайтамы с авангардным наложением и смелыми силуэтами» имеет для меня смысл так же, как и тофу: это мягкость, притворяющаяся структурой, или структура, признающая, что она мягкая.
В треснувшем зеркале моего прилавка — оставшемся от того времени, когда предыдущий владелец продавал чехлы для телефонов — я иногда ловлю свое отражение: фартук, запачканный соевой пеной, рукава закатаны, запястья испещрены окарой. И я представляю Сайтаму не как шутку, не как мем, а как человека на рынке, чувствующего, как воздух прилипает к его коже. Что бы он надел, если бы ему нужно было стоять здесь шесть часов, поднимая воду, уклоняясь от скутеров, позволяя незнакомцам оценивать его одним взглядом?
Он бы надел слои, не потому что ему нужно тепло, а потому что ему нужно трение. Длинную асимметричную рубашку, которая колышется, когда он поворачивается, заставляя мир замечать движение, даже когда лицо пустое. Высокий воротник, который закрывает горло, как обет. Широкие брюки с щедрой, скульптурной драпировкой — смелые силуэты, которые отказываются извиняться за то, что занимают пространство, потому что тело слишком долго просило уменьшиться.
Уличная одежда, когда она честна, не является украшением. Это переговоры. Она говорит: я не буду уменьшен до вашего единственного ярлыка. Это отказ, такой же физический, как сложенные руки.
Авангардное наложение идет дальше. Оно не просто одевает тело; оно ставит под сомнение контуры тела. Рукав, который заканчивается слишком рано, обнажая предплечье, как незаконченное предложение. Подол, который наклоняется, заставляя бедра казаться не на месте с миром. Ткань, которая жесткая там, где вы ожидаете, что она будет мягкой, мягкая там, где вы ожидаете жесткости — как кожа тофу, юба, которая образует мембрану на горячем соевом молоке: деликатная, но она сопротивляется разрыву, если вы поднимете ее с уважением.
Эта мембрана — это место, где живет философия. Не в центре, не в заключении, а в тонком месте, где тепло встречается с воздухом и становится чем-то новым.
Старший дядя приходит купить тофу, его руки пахнут машинным маслом, хотя он на пенсии уже много лет. Он нажимает большим пальцем на блок, как будто проверяя синяк. «Он не такой крепкий, как на прошлой неделе», жалуется он.
«Бобы другие», говорю я. «Мельница та же».
Он понижает голос, как будто признавая стыд. «Последний завод по производству деталей закрылся на две улицы дальше. Тот, который все еще знал, как резать шестеренки для старых вентиляторов. Мой внук сказал: «Зачем тебе это? Просто купи новый». Его глаза мелькают к моим, острые и влажные. «Что делать, когда старая система рушится, и никто даже не скучает по ней?»
Я наливаю соевое молоко через ткань. Жидкость теплая, пар пахнет травой после дождя. Ткань впивается в мои пальцы, когда я скручиваю ее; мои суставы белеют. «Вы делаете то, что делает боб», говорю я ему. «Вы принимаете, что не можете остаться целым. Вы становитесь полезным в новой форме. Но вы не притворяетесь, что потеря — это ничто».
Это деталь, которую не видят посторонние: в заднем переулке за рынком, под рыхлым кирпичом, я храню маленький плоский ключ от оригинального производителя тофу. Название компании слабо отпечатано, почти стерто годами пота. Того производителя больше нет. Когда их последняя